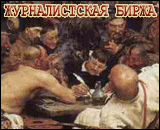|
ПРОДОЛЖЕНИЕ 1
Вода камень точит…тоненький ручеёк сочится в трещинке… бурная река разъединяет
скалы…
Решение пробивалось трудно и медленно.
Том ничего не говорил Дороти, но она чувствовала в нём какую-то перемену,
внутреннее напряжение и внешнюю скованность…
Он давно и сильно переживал, что у него нет сына, и чем старше становился, тем
сильнее мучался от этого. Ему с первого дня женитьбы хотелось, чтобы у него был
сын, с которым можно будет так много интересного и важного успеть в жизни,
который может быть другом — ведь он будет не намного старше сына… но через год
после свадьбы Дороти подарила ему дочь… правду сказать, Том не расстроился:
“Даже хорошо, что дочь, — уговаривал он себя. — Вот второй родится мальчишка, а
сестра будет за ним ухаживать… это девочке полезно: с детства привыкать нянчить
детей!..” Но Дороти опять родила дочку, и Том себя больше не уговаривал. Он
решил, что третий будет обязательно сын…
Конечно, Дороти не виновата, что опять родилась девочка… но Том больше не верил,
что у него будет сын… и это сильно угнетало его... Он с завистью смотрел на
другие “смешанные” семьи, и невольная обида на жену отравляла дни, а потом и
ночи…
Дороти чувствовала, что Том меняется, становится другим с годами, но разве могло
быть иначе? И ласки его из страстных стали привычными и необходимыми, и слова не
такими необыкновенными, и взгляды его на других она перехватывала, и это её
очень обижало и настораживало… “Мужчина” — говорила она себе и вкладывала в это
слово все свои переживания и претензии… “Может быть, надо меньше крутиться с
детьми и больше времени уделять ему? Дети вырастут и уйдут, а с кем я тогда
останусь, если он станет чужим и холодным?” Она знала, что Том мечтал о сыне, но
разве могла считать себя виноватой, что в семью приходили только дочки…
С тех пор, как Том увидел в пиццерии усыновлённого мальчишку, надежда, что у них
в семье может появиться Том-маленький, снова возродилась в нём и не давала
покоя… Он всё прикидывал, как это будет, как это хорошо будет… То ему снилось,
что они вместе идут на бейсбол, то стоят не берегу озера с закинутыми удочками и
ждут поклёвки, то вместе бродят по магазину и выбирают одежду для дальней
поездки — шорты ему и себе, кроссовки, ветровку…
Но, когда он задумывался, как сказать об этом Дороти, грустнел... Выходило, что
он не доверяет ей, если предложит усыновить мальчишку… это должно быть ей
обидно! Свой — это свой, и почему она должна любить другого… и сможет ли? А он?
Он сумеет полюбить чужого, как своего?.. Том вёл с ней длинные разговоры по
утрам, когда просыпался рано… но… говорил в уме за обоих… Они были рядом, совсем
близко, отчуждённые своими мыслями такими похожими, но даже не догадывались об
этом.
А она перехватила его взгляд тогда, за столом, и что-то будто толкнуло её в бок,
пониже сердца. Она женским чутьём почувствовала, как совершенно необходим в их
семье мальчишка, что если он скоро не придёт к ним, Том сам может уйти за сыном…
Куда? Хоть на край света… ведь он такой… такой… Она не находила слова, но знала:
если её мужу, что запало в голову, он обязательно осуществит, и добьётся, и
найдёт… А если другую женщину, которая родит ему сына?
“А может, ещё раз попробовать самой… ничего не говорить ему… разве мужчины
знают, когда это случается!.. А вдруг снова будет дочка? Тогда всё… тогда —
конец…" Она это не могла доказать даже себе, но знала точно, что так будет… Он
такой обидчивый и упрямый, она боялась даже в мыслях продолжать, что будет, если
Том по-настоящему обидится…”Нет, нет… этого не должно случиться! Женщина обязана
сохранять семью…”
Дороти смотрела на своё отражение в зеркале и спрашивала: “Что делать? Да скажи,
посоветуй, что делать?! Десять лет мы вместе... И это заметно, что троих
родила... — она повернула голову влево, вправо, подпёрла снизу ладонями свои
груди, провела пальцами по морщинкам под висками у глаз… — А он всё такой же...
что она не видит, как на него заглядываются... Обидится — ничем не сотрёшь потом
такую обиду… а… взять чужого! — кровь ударила ей в голову, и она почувствовала,
как покраснела! — Что я, ущербная какая-то! Почему чужого!? И как его примут
девчонки? И откуда его взять, и чей он?.. За что, за что мне такое?..
О Господи...”
Она молилась истово и просила: “О, Господи! Услышь меня, Господи! Никогда ничего
не просила, кроме здоровья мужу и детям, так дай же мне ещё одного здорового
мальчишку и спаси нас всех!”
Теперь эта мысль о сыне стала постоянной и главной. Она догадалась, что и Том
переживает и думает об этом не меньше, но не знала, как с ним заговорить… только
без фальши… “Юлишь — значит, врёшь, скрываешь, а недоверие что хочешь разрушит…”
Но ведь не в пустыне живут люди! Может, посоветоваться с кем-нибудь? Как быть?
Нэнси, школьная подружка, потягивая капучино, предложила сразу радикальные меры
— сходить к ясновидящей и снять порчу. Обязательно снять порчу, а идти только к
индианке, остальные — шарлатаны: незаметно у посетителя же выпытают, что и как в
жизни было, потом перескажут и ошеломят, ничего не сделают, а только деньги
сдерут…
Лилиан, сокурсница по колледжу и бывшая соседка по комнате в кампусе, приехала
специально из другого городка, выслушала исповедь и сказала, понизив голос и
глядя Дороти в глаза: “Только не вспыхивай сразу, как ты умеешь. Смени донора —
у вас несовместимость. Том ничего знать не будет! Ты что, не знаешь, как это
сделать?..”
Дороти не спала всю ночь и решила больше ничего никого не спрашивать... “Какие
советы, когда Бог не даёт счастья?!”
Если оглянуться назад, на свою жизнь, каждый вспомнит, что случай повернул его
судьбу... Скорее даже наоборот: судьба поставила на жизненном пути случай,
который обойти не просто, а “ищущий да обрящет” — сказано в Книге книг, и
мудрость тысячелетий никогда не даёт сбоя. Надо только услышать… и поверить в
неё…
Средней дочери, Мэри, устроили день рождения на общем празднике, где собирается
много семей со своими гостями. За столиками сидело сотни две ребятишек разного
возраста. Было, как всегда, официально весело, заорганизованно и безынициативно…
Кричали все вместе и одинаково, отвечая ведущему, стоявшему у микрофона: “Кто
счастливый за столом?” — “Мы счастливыми живём!” Мальчишки и девчонки хрустели
“куками” и чипсами, прихлёбывали из бумажных стаканчиков сок и коку, болтали
ногами до упора, со стуком: вперёд — носком в стол снизу, назад — пяткой по
пластиковому выпуклому сиденью! От этой тряски жидкость выплёскивалась через
край на стол, на нарядные платья и майки. Подумаешь! Родители улыбались друг
другу во всю ширину неестественно ровных зубов. Большинство из них видели друг
друга впервые… Но детям было весело! Их смешливость передавалась от одного к
другому, и все они оказывались в облаке радости на поле беззаботности и
бездумья: дурачься, кричи, танцуй со всеми вместе, смейся ужимкам клоуна и
подпевай неизменное “Хеппи бёрс дэй ту ю!” десятки раз для каждого
поздравляемого…
Когда Том и Дороти подошли к стоявшим в сторонке родителям, их встретили обычным
щебетом: “Привет! Как дела? Как приятно видеть вас!”
— А где ваши детки? — радостно спросила их экзольтированная блондинка. — Я —
Кэрэн, а мои вон там, видите: втроём в обнимку!
— А наши две девчонки там, в общем круге танцуют, а малышка Лизи — вот, за
столом рядом… — Дороти увидела, как напряжённо всматривается Том в тех троих:
два белобрысых мальчишки, наверное, погодки, держали за руки с двух сторон
раскосую смуглую девочку их же возраста… они заливисто смеялись и вдруг
свалились на пол, не расцепляя руки…
— Что делают, что делают! Как им весело! — приговаривала новая знакомая, гордо
обращаясь ко всем сразу.
— Это все ваши? — переспросил Том.
— Ну, конечно! — откликнулась блодника. — Джек, Фостер и Джейн-Наиля… мы решили
сохранить её настоящее имя… Оно такое красивое!
— Настоящее? — удивилась Дороти.
— Ну, конечно! Она из Казахстана... это далеко! Очень далеко!.. — теперь оба
они, и Том и Дороти, обратили внимание, что в толпе ребятишек попадаются
смуглые, раскосые, черноволосые, совсем не похожие на стоящих группками
родителей. — Здесь много усыновлённых детей, — внезапно перестав прыгать и
улыбаться, продолжила Кэрэн. — У нас что-то вроде клуба усыновлённых. Собираемся
вместе раза два в год... обмениваемся новостями... Тут из разных агентств
дети... из двух или трёх даже... Только ребята все из из одной страны... из
России, из республик… Какой ужас, что там всё развалилось! Вы не находите?.. —
Но Том был настолько ошеломлён, что не знал, что сказать.
— И тут все семьи с усыновлёнными? — продолжила разговор Дороти.
— Нет! Нет, конечно! Ребята друзей приглашают, вы вот, как другие, пришли… Дети
и дети! Весело, правда?!
— Здорово! Очень! — сразу откликнулся Том и постарался улыбкой стереть
напряжение с лица… “Бог привёл!” — подумала в этот момент Дороти и обняла Кэрэн
за плечи. “Теперь я знаю, как поговорить с Томом! — радовалась она про себя. —
Всё будет хорошо! Теперь всё будет хорошо!.. Я знаю, я знаю...”
Сны редко посещали Тома, а может, просто не застревали в памяти...
Сегодня ночью он оказался в госпитале рядом с Дороти, лежащей на специальном
столе в раскоряку и стонущей так жалобно, что у него мутилось в голове от её
голоса... Вообще-то она рожала быстро и потом говорила ему с некоторой издёвкой
и гордостью: “Ну, как? Ты очень измучался, милый? Правда, я быстро управилась?”
Но сегодня сквозь её стоны, когда они стали громче и вдруг сорвались на крик, он
вдруг явно услышал пронзительно-тоненький незнакомый голосок: “Не хочу! Не хочу
рожаться мальчишкой! Не буду!” В этот момент все звуки стали ещё тоньше, слились
в нарастающий писк, будто столкнулись в сужающейся горловине трубы, и вырвались
на белый свет уже откровенным детским уверенным захлёбывающимся плачем!
Том мгновенно оказался в сером сумраке надвигающегося утра. Сердце колотилось.
Он рывком сел на кровати, не спуская ноги. Тишина оглушительно давила, создавая
слишком большой звуковой провал со звенящим внутри него плачем… Дороти бесшумно
спала спиной к нему, и его обидно поразило, почему она абсолютно спокойна? Как
же так? Мог родиться мальчишка и вдруг не захотел… Он чувствовал не утихающий
пульс в горле… казалось, даже кадык поднимается и опускается вслед за ним:
вверх, вниз, вверх, вниз…
“Отчего это он не захотел быть мальчишкой? Отчего?.. Это я виноват?.. Почему? У
нас в роду столько мальчишек. Хорошие парни вырастали всегда и в жизни не
затерялись…” Он зажмурился и упёр лоб в свои большие ладони. Перед ним в
каком-то непонятном ажиотаже замелькали лица, с детства знакомые по фотографиям
из альбома, хотя большинство из них он знал ещё и сейчас, слава Богу, живыми и
здоровыми… Они почему-то все мелькали перед ним с бравыми улыбками то в
спортивной, то в военной форме и подмигивали. Сон будто продолжался, всё
происходило с невероятной скоростью, и за каждым лицом в сознании мгновенно
возникала биография, коротко сформулированная… будто этот бесконечный альбом
показывают гостю, который впервые пришёл в дом на вечеринку и которого
развлекают семейным альбомом, пока соберутся остальные, и хозяйка позовёт к
столу… “… этот ещё в первую мировую погиб… а этот в Нормандии, это мой кузен,
маминой старшей сестры сын… служил в Корее… отличный бейсболист был в колледже,
но служить ушёл… а этот на подводной лодке плавал… и облучился… Всё! Всё!” Том
крепко сжал голову руками и помотал ею из стороны в сторону. “Всё!!!” Он чуть
касаясь, чтобы не разбудить, погладил жену по оголившемуся плечу: “Я должен тебе
сказать об этом… Всё хорошо… всё хорошо будет… вот увидишь…” Это была его
любимая присказка… так все в семье говорили: “Всё хорошо будет!” Может, с этим
жилось легче?..
“Как-то случайно всё получается! — переживал он, сидя в машине и врезаясь в
серое утро: — Делаю то, что первым на ум приходит! Советы тоже принимаю, не
разбирая, что хорошо, что плохо... А кто знает, что выбрать? Случайная знакомая
подсказала — и я за ней сразу! Глупо как-то... а может, так правильнее всего?
Если её послушать — только так, как она, и надо поступать… А Дороти молчит,
будто провинилась в чём, и это раздражает ужасно! И обидно... словно она укоряет
в чём-то... А что, разве я виноват, что она одних девок рожает… А мальчишка…
хорошо бы был на меня похожим… Вот и пристань, откуда плыть надо! Значит,
китайчонка не возьмёшь, как у тех, в пиццерии… да и язык… При чём тут язык!?
Если мальчишка маленький, ему всё равно, на каком начинать болтать! Что человек
с языком что ли рождается, он потом учится говорить-то! А вот лицо уже не
изменишь… Ничего, можно и раскосого, конечно, но лучше всё же похожего… Лучше бы
всего никуда ездить, а тут своего найти… что тут мало что ли детей брошенных…
Но, говорят, что долго ждать очень… и дорого… Будто машину покупаю! — усмехнулся
Том, и неожиданно мысль его переключилась: — Да, машину менять придётся… минивен
покупать… Растёт семья… кресло-то ещё осталось от девчонок… или отдали… А машину
менять надо… тёмно-малиновую с перламутром… и чтоб двери с двух сторон… Дороже
не на много, а удобно очень… особенно, когда с детским креслом возиться надо… Да
ее послушаешь, эту Кэрэн, — мысль снова перескочила, — так выходит, что и
правда, лучше России не найти… Далеко очень… и что я о ней знаю? А какая
разница? — Том почувствовал себя будто на экзамене: подготовиться не успел и ни
на один вопрос не знал ответа. В памяти всплыли слова Кэрэн: “А вы съездите в
Бруклин, на самый юг — там одни русские! И магазины их, и рестораны… вы на них
можете посмотреть просто на улице, а не в новостях — знаете, очень милые люди”.
— Пока бумаги делаются, да формы заполняются, ещё есть время подумать!” —
успокоил себя Том.
Много детских домов в России. Ох, много... и такая жизнь вокруг, что с годами
никак их меньше не становится. И похожи они один на другой. Очень похожи… — да и
чем перебить неизбывный дух сиротства… А всё же в каждом своё что-то… И директор
другой: там — Ирина Васильевна, тут — Наталья Ивановна, и “мамы” — тоже
непохожие, и дети…
Катя стоит у закрытой двери и канючит:
— Вась, а Вась!.. — она замолкает и засовывает что-то в боковую щель, но у неё
ничего не получается. — Вась, а Вась!.. — голосок у неё тоненький и никак не
может забраться на высоту — соскальзывает, как нога с обледеневшей ступеньки...
— Я тебе пиченку принесла… — но из-за двери никакого ответа. — Тебе плохо?..
— Плохо, — откликается невидимый Вася. Катя оживляется:
— Трындычиха ушла. Я теперь другой маме пожалуюсь. Она тебя выпустит…
— Не надо, — откликается Вася.
— Тогда расскажи сказку и тебе не будет плохо… — Вася молчит. Он вообще немного
заторможенный... и губа у него верхняя сильно клювом, а у Кати — ничего,
нормально… Они близнецы… только Васе наверное “досталось от наркотиков”, что
мама потребляла, а Катя ничего — “проскочила”… Это они не сами выдумали —
подслушали… И ещё Вася иногда мочит простыни по ночам… Их даже разделить хотели:
Васю в дом для придурков отправить… но потом пожалели, ведь родные всё же, а
больше-то у них никого на целом свете… мамашу прав лишили, отца вообще никто не
знает… Пожалели… только Трындычиха возмущается постоянно: “Набрали уродов,
психов…” Вот и сегодня — засадила Васю в туалет старый: “Опять обпысалсы — вот и
живи в туалети!” Теперь она ушла, а сменная нянечка, дневная, Марфуша, и
воспитательница ещё не знают, что Вася взаперти… — Вась, а Вась…
— Ну, что?! — наконец откликается брат. — Ты забыл про сказку-та!?
— Не забыл! Я думаю… — Вася тугодум. Зато он сказок знает много! И где их
берёт!? — Ладно… Жил-был на свете Колобок, — начинает он гнусаво. Катя садится к
двери спиной, вытягивает ноги и сосредоточенно слушает. Она уже в сказке… — Не
было у него ни папы, ни мамы… а были только дедушка и бабушка…
— Это неправильно! — прерывает Катя. — Бабушка по сусеку помела и спекла
Колобок... — Вася долго молчит.
— Это другая сказка, Катька... а если лучше знаешь, сама рассказывай... — он
обиделся…
— Я тебе пиченку принесла, а она не просовывается, — чуть не плача, пищит
Катя... Вася снова долго молчит...
— Съешь сама, а то раскрошишь и всё… тут такая дверь — не просунешь…
— Вась, а дальше…
— Ты не перебивай… а были у него бабушка и дедушка… нннну Колобок был маленький
и глупый… он покатился по дорожке и начал всех встречать… и зайца, и волка… —
Катя знает эту сказку, только не хочет её до конца слушать… там в конце всё так
хорошо, что ей становится обидно, и она начинает плакать… Но Васю обрывать
нельзя, и Колобок всё катится, катится… пока не попадает в детский дом… такой
Теремок, где и Мышка-норушка, и Лягушка- квакушка... но дальше сердце Кати не
выдерживает, она отталкивается затылком от двери:
— Ладно, Вась, я пойду найду Марфушу… — и пока прерванный Вася молчит и
переходит из сказки в другой мир — реальный, Катя поднимается тяжело, как
старуха, опираясь на руку, засовывает обколовшееся печеньице в карман
бумазеевого в линялых цветочках халатика и на цыпочках, мелко семеня, быстро
уходит… Но сказка в ней никак не кончается, и обида всё равно наплывает… потому
что Колобка находит бабушка и забирает его домой…. Только не кладёт на окошко,
глупого, а сажает за стол и кормит щами со сметаной… Тут от жалости к себе самой
Катя начинает потихоньку всхлипывать и, не в силах больше идти, падает на
колени, утыкается головой в угол и тихо безудержно плачет...
По закону близнецов разделять не положено. Да что закон — кому охота держать у
себя такого, как Вася... вот и стараются сделать: чем хуже, тем лучше. Писается!
В развитии отстаёт! А школа на носу, как он учиться будет? Надо его в спецкласс
отдавать, а такого в их детдоме нет. Переводить придётся в специальное
медицинское учреждение... Это ещё не сформулировано на бумаге. Но письмо такое
непременно появится. И сердце у пишущего не дрогнет — что он, первый такой что
ли, Вася… А пока Трындычиха, здоровенная толстозадая баба лет сорока, будет с
наслаждением тыкать мальчишку искажённым природой личиком в мокрую простыню и
тащить за руку в старый сырой с чугунным бачком высоко наверху туалет, которым
никто не пользуется, чтобы провинившийся, насидевшись в тусклом свете и спёртом
воздухе, осознал всю тяжесть своего очередного проступка…
Пока он был маленьким не так бросалось в глаза его сплюснутое с двух сторон
лицо, ассиметричные глаза и как-то брезгливо-нелепо чуть-чуть приподнятая
верхняя губа… но потом отклонение всё сильнее стало проявляться, и если бы не
Катька… Вася безобидный, а Катя так трогательно берёт его за руку и ведёт за
собой, что любое сердце вздрогнет от мысли разорвать их… ни от кого ему больше
тепла не достанется в жизни. Никогда… Зато Вася на полголовы выше сестры, и
когда кто-нибудь захочет её обидеть, ещё подумает, стоит ли…
Теперь такая жизнь пошла странная… игрушки совсем другие, телевизор цветной, и
куклы другие… а в их доме всё чаще появляются какие-то люди, а потом кто-нибудь
из мальчишек или девчонок уезжает с ними, и Вася с Катей тогда уходят далеко в
уголок двора, садятся там на сырую лагу старого забора и молчат… Они знают уже,
что это Бабушка и Дедушка нашли своего Колобка… а их никто не находит… Вася ведь
не дурачок… он заторможенный просто, а Катя его любит… очень… потому что он
брат… добрый, и на неё похож, только лицо у него немного сплюснуто… но он
поправится, когда щёки потолстеют, и все увидят, что он очень красивый… и
столько сказок знает… он их сам придумывает… и всегда добавляет чего-нибудь
новенького… А что если, как Колобок, уйти из дома и покатиться по дорожке, и,
может быть, тогда их начнут искать и станут спрашивать: “Чьи это? Чьи это дети?”
Тогда вдруг объявятся Бабушка с Дедушкой… у всех ведь были Бабушка с Дедушкой…
просто все потерялись однажды, и теперь главное найтись… а их дом далеко стоит,
в стороне от всех домов городка, за рощей... и зимой там не пройти, столько
снега наметает, а весной ноги из глины не вытянешь... а до станции совсем далеко
— через рощу, поле и весь город…
— Вась, а когда вырастем, ты мне новое платье, купишь? — Катя держит его за руку
и пристально смотрит сбоку.
— Я работать буду, как папка, — неожиданно быстро откликается брат. — Шофёром.
— Откуда ты знаешь? — Катя разворачивается к Васе и придвигает своё лицо к нему
так близко, что тот отклоняется назад.
— Знаю!
— Откуда? — не унимается сестра.
— Слышал...
— Что слышал? — но Вася ушёл в себя и опустил глаза. — Что слышал? — трясёт его
Катя… она чувствует, что сейчас заплачет, потому что раньше никто никогда не
говорил про их отца… значит, он есть?!
— Слышал, как Трындычиха говорила: “Вот нашоферил двух поганцев! И поминай, как
звали…” — Катя уже тихо плачет и Вася, чтобы успокоить её, гладит по прикрытой
бумазеевым платьем коленке и бормочет тихо-тихо: — Я слышал, правда, слышал…
Вода камень точит. Трындычиха стояла на широко расставленных ногах, чулки в
резиночку буквально лопались от натуги на толстых икрах. Разъярённая и мощная,
она заполнила кабинет и вдавила директора в кресло по ту сторону стола.
— Ты, Наталья Иванована, не смотри, что я воспитательница простая! Што я хуже
твоих образованных?! Я тебе так скажу: этот Кучин, Васька, значит, на детей
влияет плохо... А запах какой! Ты не смотри, кто я, а слушай: его удалять надо,
— с Трындычихой никто не связывается… она кого хочешь из себя выведет… и
поддержка у неё мощная, как она сама… Говорят, её зад очень Николаенко
приглянулся, а у него большая сила в их городочке… — Ты бы куда надо-то
позвонила, что мы не знаем, как делается… там бы бумажку написали с диагнозом, а
у нас бы чище стало… Это что ж мы сучьих щенков холить будем!.. — злая она,
Трындычиха, а против злости что поставишь?.. И детей не любит… своих нет, тоже,
может, от злости, или от того, что себя сильно любит…
Наталья Ивановна смотрит в закрытую дверь… “Вот ведь прозвали! Точней и не
придумаешь… Трындычиха… В телевизоре поймали что ли?.. Ну, что я скажу ему? —
перескакивает её мысль, и она представляет сухое, со впалыми глазами, лицо
Сиротенко… От него в крае усыновление зависит, с тех пор как стал депутатом… — У
него и фамилия такая… может, сам в детдоме вырос незнамо чейный… оттуда и
фамилия… К нему ж не подступишься… и Ваську жалко… а Катя… — она чувствует, как
начинает ломить голову сначала в висках, потом выше, выше к макушке, и боль
сползает к затылку, застревает там и нависает над шеей…
Три года она здесь, а как жизнь переменилась! Что она скажет ему: “Бумага всё
терпит!?” “Нет уж, лучше Трындычиху терпеть… сколько получится… наверное, она на
моё место метит… больно уж агрессивная стала последнее время… Теперь всё просто…
и диплом купит, и Николаенко сломает… с таким-то телом… а мальчишка… ему везде
плохо… кто на него глаз положит… а так Катька, может, ещё и приглянется кому…”
Огромная страна лежала в тумане. На западе циклоны наплывали один за одним из
Атлантики через Балтику. На востоке налетали остатки цунами, а между ними с
севера спускался ледовитый холод, наполняя воздух невидимыми в одиночку
кристалликами, создававшими ледяную завесу всему сущему от любого прижмуренного
на резком морозном воздухе глаза…
Солнце будто и не светило в этом десятитысячекиллометровом коридоре шириной от
Северного полюса до Туркменских пустынь. Оно обходило его стороной и сияло на
юге, где от него лица менее угрюмы, глаза всегда хитро прищурены и кожа смугла и
туго натянута…
Сиротенко сидел в кресле и бессмысленно смотрел на сгущающуюся к вечеру серость
изморози… "Трудно… невероятно трудно дождаться следующего солнечного дня… может
быть, через неделю, может, через месяц… зарыться с головой в постель, уйти,
отключиться и не вспоминать, не вспоминать, а мысли именно и одолевают в такую
пору!.. Им лишь маленький толчок, ничтожный повод, слово! Одно слово, звонок,
название… детский дом… И сразу наваливается всё прошлое, накатывает безудержно,
как лавина, и никакая преграда не в состоянии сдержать это низвержение на тебя…
а там, под толщей, засыпавшей и распластавшей тело и душу, бесполезно шевелиться
— не сможешь, бесполезно звать на помощь — не услышат, бесполезно стараться даже
думать о другом — не получится…
И почему это судьба устраивает?! Зачем? Если сам вырос в детском доме и
вспоминаешь его не как страшный сон, а как страшную быль. Как один чёрный
коридор, по которому ты идёшь не на еле желтеющий вдалеке свет, а во всё более
сгущающуюся темноту с единственным желанием, чтобы она скорее тебя поглотила
навсегда и избавила от постоянного унижения, от непосильных душевных мук, перед
которыми даже непреходящий голод и вечные побои — ничто! "Змеёныш! Сын врага
народа!" Они говорили, что яблоко от яблони недалеко падает, и были правы! Они
всегда и во всём были правы! Кто? Они! Взрослые! Власть! И он ненавидел эту
власть так сильно, что в любую секунду задыхался от ярости при соприкосновении с
самым ничтожным её проявлением — вывеской, ступенькой, дверью… Он ненавидел её с
самого того дня, когда перестал по-детски, по-октябрятски любить… вернее, с
самой той ночи, когда забрали отца… Мать взяли через два месяца… а его не успела
увезти тётка от вездесущих энкавэдэшных глаз, и “змеёныша” сволокли в детский
дом, потому что он сопротивлялся, кусался, орал — словно знал, что его ожидает…
Там он постепенно стал ненавидеть всех: директора, воспитателей, "контингент",
т.е. своих однокашников, тоже попавших в беду… и растил это сжигающее чувство со
своих семи до шестнадцати лет, когда его выкинули на свободу… Это случилось
сразу после смерти Вождя. Мать не вернулась, и никто не знал, где поплакать над
ней. Отец очень скоро оказался дома и умер через два года, но за эти два года
успел добавить столько к посеянному в душе мальчишки чувству, что всю оставшуюся
жизнь Сиротенко не мог совладать с ним… "Ты, Ванька, никому им не верь, — отец
неопределённо обводил рукой круг, — они все бляди! Ни одному слову не верь! И
дела никогда с ними не имей! Они не люди — так… шваль двуногая!.. И помяни моё
слово: погибнут от своего же семени — наплодили Павликов Морозовых и ненависть в
народ уронили!.."
Отец однажды просто не проснулся. От него остались сапоги, новенькая телогрейка
— носи и носи — и, главное, комната… если бы не жилплощадь, не выжил бы
Сиротенко. Не состоялся. Сгнил бы где-нибудь в лагере или на воровской малине,
как многие его товарищи, выпущенные в белый свет на верную погибель… А он выжил
и распрямился, и поднялся… и каждый раз, когда думал об этом, вспоминал
единственного человека, которому, как выходило, был обязан всем этим… потому что
дал ему в душе клятву — вроде мальчишескую, смешную, непроизносимую вслух, и
оказавшуюся тем посохом, который поддерживал его в трудную секунду, когда дорога
уходила из-под ног…
А поклялся он Абраму Матвеичу, врачу в санчасти №3, что если выживет, непременно
станет врачом, и сам тогда отплатит за всё добро, что от него получил, другим
таким же бесприютным и обиженным, каким был сам… такая вот ни к чему не
обязывающая клятва, о которой никто не знал. Никто. Но Сиротенко, чем старше
становился, тем серьёзнее к ней относился и, наконец, решил, что если не
выполнит её — незачем ему жить на свете! И чем сложнее ему становилось с годами
пробиваться из глухой провинции, из тьмы невежества и жестокости к своей цели,
тем больше он ненавидел всех, кто мешал ему, а более — недодал в детстве, даже
фамилию настоящую у него украл, изуродовал его душу, исполосовал спину, истощил
в самом начале пути запас детскости, который только и спас многих, живших в те
же годы, но кому больше повезло…
Звонок Ирины Васильевны из “третьего дома” отбросил его в память, далеко назад,
и он с усмешкой вспоминал, какие диагнозы вписывал Абрам Матвеич в его дело,
чтобы вырвать к себе в “стацьёнарь” и уложить на койку недели на две, а то и на
три… Это были самые счастливые дни его детства! Самые тихие, сытные, книжные,
пропахшие карболкой и хлором. Другие не выносят эти запахи — запахи больницы, а
для него — они самые желанные, приводящие в сегодня неведомым путём из далёкого
далека самое светлое, что было в его жизни!
“Ша унд рюигх!” — тихо говорил Абрам Матвеич, прикладывая толстенький короткий
палец к губам, а второй рукой подталкивая его в спину к койке. И когда мальчишка
садился на скрипучую проваленную металлическую сетку, наклонялся к его лицу и
выдыхал: “Обгемахт! Форштейст?!”, и уходил, не стирая улыбки.
Это он, доктор Абрам Герпель, уложил его с диагнозом “острая дистрофия”, когда
шарили по всем детским домам, приютам и детприёмникам чтобы набрать положенную
норму для специального детского дома, в котором содержали детей с умственными и
физическим отклонениями — чтобы они не мешали остальным, во-первых, а во-вторых
для создания им “особых условий”, от которых мало кто оставался в живых…
Что говорить!.. Если бы не он... так бы и замёрз Ванька на покрытом ледяной
коркой глиняном дворе, к которому примёрзли кучи дерьма с застывшими в них
белыми червями, когда всему детскому дому гнали глистов сантанином, а дети не
могли присесть на очко, потому что все места были заняты. Это ж именно ему,
Ваньке Сиротенко, директор поручил назавтра убирать двор: “Срезай эту нечисть,
как мы всех врагов народа уничтожаем!” И Ваньку рвало так, что казалось, все
кишки через горло вылезут наружу, и зеленоватая жижа, выпузыривавшаяся из него,
застывала новым слоем над чужой белой.
И как он только угадывал, этот маленький доктор с одутловатым лицом, что Ванька
Сиротенко дошёл до точки и, если его не забрать для передышки, хоть на недельку,
то натворит он дел, натворит… не знал Ванька этого. Вообще ничего не знал про
доктора, но более всего, его занимало, почему доктор с ним возится, даже, можно
сказать, любит... Один и любит на весь белый свет...
Конечно, Ирина Васильевна ничего этого и знать не могла, когда первый раз
обратилась к нему, Сиротенко, с просьбой помочь её воспитаннику… Бумага… о,
бумага! Она всё терпит… и диагноз вытерпит такой, какой человек не вытерпит, она
не загнётся, а человек оживёт… Волоскова первый раз пришла к нему наугад, по
слухам, и, конечно, не поняла, почему так легко всё получилось… ведь с таким
диагнозом никто из “своих”, местных, российских усыновлять ребёнка не будет. А
постановление, которое приняли, обязательно для всех домов ребёнка и детских
домов страны, — иностранцам можно отдавать на усыновление только больных детей!
У них там медицина первоклассная, и деньги, и условия… да только надо так умно
славировать, чтоб и иностранца диагнозом не отпугнуть… Конечно, она не могла
знать, что всё, что написал тогда на медицинской карте ребёнка Сиротенко,
состояло из тех же слов и букв, что его никому неизвестная клятва… и ещё она не
знала, что совесть в этот момент мучает Сиротенко не из-за медицинского
диагноза, а совсем по другому поводу: он размышлял о том, как хитро устроена
жизнь, что сам он теперь принадлежит к власти, которую с детства ненавидит!
Любую! Разве что изменилось? Стал тем, что всю жизнь ненавидит… Вот ведь в чём
беда! Он сам теперь решает человеческую судьбу — вот этой писулькой! Вот этой
подписью! И в этот момент толстые губы Абрам Матвеича совершенно отчётливо
произносят ему в лицо “Обгемахт! Форштейст!” И он, чувствуя, как горячая спина
прилипает к рубашке, отвечает ему: “Обгемахт!”
Звонок Семёна означал, что он нашёл клиента и теперь подбирает ему ребёнка —
обязательно мальчишку. По всему выходило, что Пашка самым подходящим будет. Она
Пашку любила... у неё за всех “своих” душа болела, но он чем-то больше других
тронул её сердце. Любимчиков в детском доме заводить нельзя ни в коем случае,
Ирина Васильевна это с детства знала, от этого таких проблем нарастёт — не
будешь знать, как выпутаться… Но сердцу не прикажешь, а глаза сами его в комнате
находят, и чуть дольше на нём взгляд задерживается… может, потому что сама она
тоже о сыне мечтала, да так вышло, что не смогла себе позволить ещё одного.
Иногда мелькала у неё мысль: “А не забрать ли себе его?” Но никак это не
получалось… поздно уж… кто его растить будет? Да и из своего детдома брать никак
не нельзя — для остальных это такой удар, такая травма… на всю жизнь… Можно,
конечно, его до конца здесь держать, под своим крылом, и опекать и учиться
заставлять… побольше внимания уделять, а потом, когда настанет время ему
вступать на самостоятельный путь, забрать к себе… Да захочет ли? И что с ней
тогда будет? Такое время настало, что лучше про завтра не загадывать... “Будет
день — будет пища!” — повторяла ей мать частенько из священного писания, и
только с годами осознала она всю мудрость и слов этих, и жизненных установок
своей семьи во времена, когда по ночам исчезали люди навсегда, а ярлыки на шее
весили так много, что сгибали человека в три погибели, и втыкался он навсегда
головой в землю…
“Если б кому из местных или знакомых отдать? Да кто здесь захочет, в их глуши? А
не найдётся никто — одна у него дорога… со сменой белья да несколькими сотнями в
кармане — из одного казённого дома да в другой… Там зэки обучат… до конца жизни…
а жизнь вся: от одной отсидки до другой… Он мягкий — устоять не сможет… Хорошо,
что Семён позвонил… Он не спешит, основательно всё готовит, а когда созрело —
подсекает… И не скаредничает… всех оделит… У нас без этого… никак! — она
вздохнула и остановилась в раздумье. — Надо у него обувки для ребят попросить
снова… из фонда этой сумасшедшей бабы американской, что померла, а всё своё
состояние миллионное завещала только на обувку детям-сиротам… Сумасшедшая,
сумасшедшая, а повезло, считай! Там такие деньжищи, что во всём мире всех сирот
обуть можно!.. — мысли её бежали, перекрещиваясь, перескакивая со своего,
личного, на детский дом, на Семёна, да и вряд ли могла она отделить теперь свою
жизнь от всего, что окружало её на работе с утра до вечера, и тревожило, и не
давало спать по ночам. — Настя уж заневестилась… впору мне внуков иметь… бросить
всё и сидеть их нянчить… в такие времена только глаз да глаз за ними, чтоб в
сторону не ушли, с колеи не сбились… да и где она, колея эта… А уйти на покой,
кто кормить будет?.. На пенсию подыхать… нет уж…"
Ирина Васильевна вдруг резко поддёрнула рукав, посмотрела на часы и направилась
к телефону-автомату. Она на память набрала номер и терпеливо пережидала длинные
гудки. Наконец, когда уже решила повесить трубку, там прозвучало сквозь треск и
шорохи: “Сиротенко слушает…”
— Иван Михалыч! Вы никак уходить собрались?! Жаль!.. — сказала она вместо
приветствия.
— Ирина Васильевна, вы что ли? — отозвалась трубка.
— Я, я, конечно! Кому ж ещё! — весёлым голосом подтвердила Ирина Васильевна. —
Слышите, Иван Михалыч, вы погодите маленько… не уходите, мне с вами поговорить
надо!
— Срочно?
— Очень! Я сейчас на улице уже, до автобуса только, и в город — через час буду…
— трубка молчала. — Алё, алё, Иван Михалыч, вы меня слышите?
— Да слышу я! — буркнуло в трубке. — Ты вот что… да погоди, не перебивай! — он
перешёл на “ты” и пресёк попытку возразить ему. — Ты домой иди… У меня машина в
ваших краях… возвращаться скоро будет… Я сейчас Фёдора выловлю, да за тобой
пришлю… Так быстрее будет, раз срочно… Слушай, я давно спросить тебя хотел, да
всё неудобно, а по телефону-то что… Глаз ведь не видишь! — голос Сиротенко
звучал теперь без хрипотцы, совершенно молодо. — Сколько лет тебе? А? Что ты всё
никак не угомонишься? Ох, был бы я помоложе!..
— Может, хотел сказать, была бы я помоложе! Чего лукавишь!?. — тоже переходя на
“ты”, ответила Волоскова. — Ну, спасибо! — и она повесила трубку.
Разговор их в кабинете продолжился, будто и не было часового перерыва. За окном
синяя мгла ещё не настолько загустела, чтобы скрыть чёрную непроницаемую стену
дальнего, запольного леса... Казалось, художник загрунтовал холст разными тонами
и теперь раздумывает, какой более подходит ему, и что ляжет на него естественнее
и яснее…
— Ты моего Пашку Лесного помнишь? — Ирина Васильевна задала вопрос и терпеливо
ждала ответа, хотя знала его наперёд.
— Шутишь! — деланно возмутился Сиротенко и крутнулся за столом в удобном кресле.
— Как всех упомнить…
— Ну, неважно! Забыл... Я тебе рассказывала... Девчонка вместе с Настей моей ещё
в детский сад ходила, потом в школе они учились вместе. И вот родила Пашку,
понимаешь, когда саму ещё нянчить надо было. — Собеседник сосредоточенно слушал,
хотя ясно было, что ничего из сказанного не припоминает, но готов сделать вид,
что всё вспомнил… он даже рот приоткрыл, чтобы сказать это… — Ну, неважно,
неважно… Ты вот что… ты не можешь его взять в больницу к себе на время… на
обследование…
— В больницу?
— Да, знаешь, мне позвонил…
— Погоди! — перебил её Сиротенко и резко встал. — Погоди! — он обошёл стол и
остановился около Ирины Михайловны. — Пойдём выпьем чаю! А то устал я что-то. —
Он взял Ирину Михайловну под локоть, за дверью, в приёмной нажал какие-то кнопки
на селекторе, стоявшем на столе ушедшей уже секретарши, и они вышли в коридор. —
Вот теперь и расскажешь, — предложил он мягко. — Извини… так лучше… не в рабочей
обстановке… пойдём по двору погуляем… больные в это время все по палатам…
— Мать у него — наркоманка и пьяница, в графе отец — прочерк… никто не знает,
кто он… Запугали, видно, девчонку по малолетству, а может, вправду, сама не
знает… Здесь мальчишку никто не возьмёт… кому он нужен, а тут подходящий
вариант, Семён звонил… Но ты же знаешь, как теперь сложно — мы ж только совсем
больных за рубеж отдавать имеем право, которых у нас не возьмёт никто… чтоб не
обвинили, что детьми торгуем… А там лечить умеют… Ну, вот, обследуй, пожалуйста,
при такой-то наследственности у него что хошь найти можно… Он и правда, какой-то
заторможенный… и губа… Хороший мальчишка… что ему тут…
— Всё сказала? — повернул к ней голову Сиротенко.
— Ну...
— А ты никогда не задумывалась, Ирина Михайловна, отчего у меня фамилия такая?
А?.. Ну, ладно… я тебе как-нибудь в другой раз расскажу… Что ты на меня так
смотришь? Нет, у меня оба родителя в положенных графах, и не алкоголики, а
наркоманов тогда ещё и не водилось… Мне её власть подарила… Ладно… чегой-то я!?
Понял я всё… понял… только ты меня в другой раз, когда поговорить надо срочно, —
он особо нажал на это слово, — ты меня просто на чай пригласи, ладно? Ну,
пойдём, и вправду, выпьем чаю, или ещё чего-нибудь! Что ж это я красивую женщину
так встречаю!..
Трындычиха сочиняла дерзко и вдохновенно. Она вообще любому делу отдавалась
целиком — и душой, и телом. Тонкую шариковую ручку со всех сторон, как патрон
дрели, обхватили пять коротеньких толстых пальцев, она вся подалась чуть вперёд
над столом, потому что толстая рука загораживала взгляду тетрадочный лист…
“Эта женщина, с позволения сказать, мать, детей по дороге, как корова лепёшки
роняет, — выводила она медленно большими круглыми буквами. Они не умещались в
маленькие клеточки, и пришлось уже однажды начинать всё сызнова на другом листе,
потому что строчки совсем налезли друг на друга. — А потом другие граждане
страны в трудное время должны за её плодами ухаживать и воспитанием заниматься,
что отнимает деньги у государства и населения вместо прибавить зарплату и
пенсию...” — тут она задумалась надолго. Ей почему-то вспомнилась её бабка,
которая получала пенсию семнадцать рублей... старых ещё, брежневских… Всю жизнь
в колхозе ломила, а пенсия ей вышла по старости вот такая… К чему это она
припомнила, сама понять не могла. Всплыла в памяти такая картинка: бабка выводит
закорючку в листе у почтальона Николая Петровича, а потом он ей отсчитывает
рубли, ещё раз перекладывает бумажки, протягивает и произносит каждый раз одно и
то же: “Смотри, Семёновна, не упейся!” Бабка молча принимает положенное и
безнадежно машет на него крупной рукой: “Небось! Не впервой”. Она не благодарит,
не прощается, поворачивается и уходит с крыльца в сени молча…
Галина снова вернулась к своему сочинению, перечитала с самого начала:
“Уважаемый господин... Может сразу президенту написать?" — усомнилась она. Но
подумала, что до Москвы далеко. Письмо могут потерять, и читать там долго будут,
а тут свои-то поближе и разобраться легче. В том, что разбираться будут и
непременно дотошно и скоро, она не сомневалась. Такое творится! Это что же
будет, если и другие так… Надо непременно, чтоб в газеты всё попало, и выговор
ей вынести… публично! Вот ведь сука, небось и не знает, от кого семя! Вахтовики
едут — она за ними! То убрать, то постирать... а кто отец потом и не знает… Да и
мужиков, как винить? Им там, на буровой, терпежу нету… "Лучше всего в милицию, —
решила Трындычиха. — У них и следователи, и прокуроры, и транспорт… А в случае
чего Николай подтвердит, я ж ему всё рассказывала!" — и она исправила крупно:
“Начальник милиции” . Пришлось опять всё переписывать. Но теперь она делала это
быстрее, стараясь не вникать в слова, и чтобы получилось ровно и красиво. Потом
она запечатала конверт. Крупно вывела “Начальнику милиции” и, держа его в
полусогнутой руке перед собой, отправилась узнавать адрес на почту.
— Какой государственной важности? — с презрением отреагировал Николай на её
рассказ. — Какой?! Мало идиотов что ли на свете, чего ты лезешь-то?! — Это
возмутило Трындычиху ужасно, она повернулась уходить и так и стояла в полоборота
к сидящему за столом, а он никак не мог успокоиться: — Ты подумай, ну, при чём
тут милиция? Ну? Что бабе, замок что ли на одно место повесить или часового
приставить?! Так с какой стати! Пошлёт она его куда подальше! Тебе зарплату дают
— и работай! Какое тебе дело, чьи дети?! Теперь твои — ты и ходи за ними… А не
нравится, иди в другое место! Теперь свобода и рабочих мест навалом! А то письмо
писать! Поди забери!.. Небось, и адрес свой не написала? Анонимное?
— А вот написала! — мотнула толстым задом Трындычиха и показала Николаю язык. —
Я тоже законы знаю! А милиция для того и есть, чтобы все жили правильно, понял?!
Не заберу!..
Так и поползло это письмо со стола на стол. Кто, читая, усмехался, кто
задумывался, до чего довела жизнь их женщин. Никому не хотелось им заниматься,
но оно чудом не затерялось и проросло совершенно неожиданно.
Долгая дорога не казалась изнурительной — столько нового отвлекало внимание от
путевого однообразия, что время летело незаметно. Даже задержка местного рейса
из-за снегопада в аэропорту со странным названием Домодедово не казалась
тягостной. За огромным окном двухэтажного зала плавно и бесшумно плыли носатые
лайнеры по белому бесконечному морю, при каждом их повороте казалось, будто они
вынюхивают дорогу… Оранжевые снегочистилки выстраивались лесенкой и двигали
перед собой белую гору, которая постепенно съезжала от машины к машине и
выкладывалась ровным снежным валом вдоль бетонной полосы. Белое облако пара и
снежинок клубилось над этой упорной шеренгой и неохотно оседало за ней на землю.
— Здесь всегда столько снега? — Кити повернулась назад к сидящим перед окном
родителям.
— Говорят, в этом году зима особо снежная выдалась... а летом тут жарко, —
объяснил Том.
— Как у нас, в Нью Джерси? — Кити не могла удержать свои вопросы.
— Почти, — Том думал о своём. Иногда странный холод в груди словно останавливал
его непроизносимым вопросом: “Может, зря я всё это затеял? Бог знает, кому что
положено… кесарю кесарево… И если бы это только меня касалось… расходы… заботы…
и главное, дети. Это сейчас они ждут – не дождутся… а вдруг не поладят? Хотя
они, конечно, добрые и уступчивые, но это, когда просто играют с чужими час,
два… а тут-то навсегда! Это не чужой! Он им брат... брат...”
— А что он любит, ты знаешь?
— Любит?.. — "Она это так странно говорит, будто на день рождения собирается к
кому-то и спрашивает: что ему купить, что он любит?” — подумал Том и не сразу
ответил: — Вот ты и узнаешь! Для чего тебя взяли? Детям легче понять друг друга!
— Как же я его пойму? Он разве умеет говорить по-английски?
— Понимают вовсе не по словам! — вступила Дороти. — Слова часто… ну, словами
иногда сказать невозможно то, что сердце понимает… А английский он выучит
быстро…
— А как? — не унималась Кити
— Как? — Том даже почесал в затылке. — Да запросто! Он же не в гости приехал, —
Том вдруг на секунду остановился и мельком подумал: “Уже приехал?! Вот как!
Значит, всё верно!..” — Он же не в гости, — повторил он. — А насовсем!..
Понимаешь?
— Конечно, понимаю! — очень серьёзно подтвердила Кити и вдруг замолчала. Она
чуть помешкала и, переводя взгляд с одного на другого, поучающе произнесла
совсем тихо и внушительно: — Только вы никогда не должны ругать его! Никогда!
Понимаете! Нас с Мэри и Лизи — можно! Сколько хотите! А его — нет! Понимаете? —
она больше ничего не произносила и ждала подтвержедния...
— Ну, — замешкалась Дороти и ответила, подавляя улыбку: — Ну, а если он что-то
не так делает или ошибается? Замечание-то сделать можно?
— Ну, замечание... — поколебалась Кити. — Замечание, наверное, можно… Но лучше
ты мне скажи, а я ему… А как по-английски будет Паша? — вдруг встрепенулась она.
— Паша, как говорится, и в Америке — Паша! — оживился Том и притянул дочь за
руку к себе на колени. Он уткнулся носом в её щёку и забасил как буксир на реке:
“Бу- ту-ту-у бу-ту!” И Кити засмеялась таким счастливым смехом от щекотки и от
того, что впервые смогла произнести имя "Паша", которое повторяла про себя всю
дорогу, что у Тома невольно выступили слёзы на глазах… Он догадался, отчего так
весело и беззаботно смеётся дочка, почувствовал, как спало напряжение, и
знакомый голос прошептал ему внутри: “Всё будет хорошо! Всё хорошо будет!”
Ирина Васильевна встретила гостей приветливо и спокойно — не первый раз уже
приезжали за детьми из Америки… Но каждый раз она с ревнивым чувством
приглядывалась к новым родителям своих питомцев… Кому её дети достанутся? Какие
ни какие, а все они были свои. В повседневной спешке редко она уделяла им
внимание, хоть и знала всех по именам, директор — это большой завхоз: достать,
обеспечить, отчитаться, выбить… "Иностранцам и не объяснишь, наверное, — думала
она, — как нам всё достаётся… Да и у них, небось, с неба не падает!" Но когда
случались праздники, и она слушала, как знакомые уже полвека песни, выводят
детские голоса, когда смотрела, как ребята отплясывают в хороводе, это
отодвигало в глубь суету будней и высвечивало улыбки детей — все они представали
совсем другими, своими, близкими… И она ловила себя на том, что вдруг в разгар
веселья или шумной детской трапезы сердце её сжималось оттого, что, как ни
крути, они здесь, у неё в детском доме, и не побегут после праздника домой к
маме и папе, а она хоть семи пядей во лбу будь, хоть наизнанку вывернись, — ни
мать, ни отца, ни деда с бабкой им всё равно не заменит… И часто такую тоску
видела она в ребячьих глазах, что не могла в них смотреть и отворачивала взгляд…
Одно время уж совсем ей не по себе стало, когда опять не то что деликатесов и
нарядов не достать стало, а как в войну — хлеба не хватало. Решила она бросить
всё и заняться чем-нибудь другим. Чем угодно. Только невмоготу ей стало
полуголодных детей видеть и у себя в детдоме, и по помойкам рыскающих в поисках
съестного, и оборвышей бездомных, готовых на любую услугу, лишь бы копейку
взрослые заплатили, да покормили… И тут послали её в ознакомительную поездку,
как бы на обмен опытом, поделиться достижениями в другую область… Нагляделась
она там, наобменивалась, вернулась и решила: "Нет… не уйду… О себе думать, ещё
раньше с кона сойдёшь… Всё равно столько лет тут оттрубила, что теперь не
отрежешь — от себя никуда не денешься, и память заместить нечем, и станут они
мне все, что столько лет со мной живут, сниться по ночам: что с ними стало, да
кому они достались… Кто его знает, кого пришлют… Нет." И она осталась. Осталась
и знала, что навсегда!
Поэтому она так ревниво и придирчиво осматривала приезжавших, а Пашка… Пашка —
особстатья… хоть и знала она, что ничего не изменит. Может, конечно, если очень
не понравятся ей люди, заартачиться и поперёк встать. Может. Да не станет… даже
не в том дело, что в богатую Америку отдавала ребёнка, где и оденут, и обуют, и
полечат — богатая страна, правда… Не это главное: в семью отдавала! К маме и
папе! А когда материнским сердцем чувствовала, как рады её мальчишке или
девчонке приехавшие забирать его, хорошо ей становилось и радостно… "Какая
разница, куда он едет! Лишь бы хорошо ему было! Раз в России обнищал народ
сейчас, пускай хоть в Америку…"
Тому директриса показалась строгой и неприветливой. Они украдкой переглянулись с
Дороти, а когда Кити ещё тихонько спросила: "Папа, почему тут так невкусно
пахнет?" — настроение у Тома совсем испортилось.
Пашка дичился и не хотел подойти к ним, рта не раскрывал — хоть бы слово, чтоб
голос его услышать, и даже от подарков, которые ему протягивала Кити,
отказывался, — так и остались они лежать на директорском диване в кабинете.
Гулять он согласился пойти, только когда Зинка взяла его за руку и сказала, что
сама поведёт по двору и на горку… Его мальчишеский опыт был таким крошечным,
ничтожным, а мужчин он видел так редко, что и сравнивать было не с чем… да и
говорили гости как-то совсем непонятно… Зачем ему такие мамка и папка… он всё
время смотрел то на мятую сплюснутую шапку на голове Дороти, то на руки Тома,
поросшие бронзовой кудрявой, шерстью… и эта девчонка в каких-то синих штанах до
шеи… Зачем они? У него есть Зинка, и мама Таня, и мама Людмила Васильна, и
главная мама Ирина Васильевна — зачем ему другие… Страшно остаться без них! Как
это? Он даже представить не мог… А чужие говорили, говорили всё время, и он не
понимал ничего! Только тоненькая вертлявая тётенька всё время крутилась между
ними, поправляла очки и повторяла ему какие-то слова про папу и маму, а кто она
такая, и почему она говорит это — совсем ему было не понятно…
По-правде сказать, не удалась первая встеча…
Когда Вилсоны остались втроём, они долго и тупо смотрели на экран телевизора,
где шёл по единственной программе какой-то совершенно непонятный не то фильм, не
то спектакль. После часового сосредоточенного молчания, когда каждый по-своему
пытался вытянуть из глубины и снова припомнить всё, что произошло за день, и
решить что-то, Том вдруг произнёс:
— А мне мальчишка понравился! Правда он симпатичный, Кити? — и всех словно
прорвало.
— Ты не переживай, — успокаивала его Дороти. — Знаешь, у русских есть такая
поговорка: "первый блин комом!" — это мне наша переводчица Надя объяснила…
— А вы заметили, какие у него глаза? Какого цвета? — торжествующе спросила Кити,
потому что наверняка знала, что ни мама, ни папа не знали.
— И какие? — откликнулся Том. Кити помедлила, чтобы насладиться победой и
выпалила:
— Голубые, как у Лизи! А вы не заметили! Как у Лизи, точь-в-точь! — почему-то
после этого всем стало вдруг легко и хорошо. Никто бы не объяснил, почему…
Может, от упоминания о маленькой любимице всей семьи, а, может, от того, что
наконец-то, они увидели своего Пашу и не надо больше гадать, какой он и как их
встретит… Уже встретил! И ясно, что у него такие же голубые глаза, как у Лизи!
<<<НАЗАД
К ПРОДОЛЖЕНИЮ>>> |