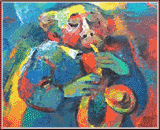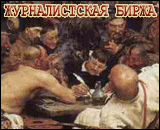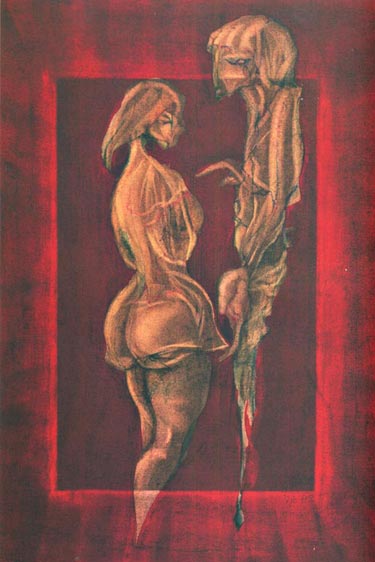 Пуфик и пень Пуфик и пень
Мы не вошли в мир Ближнего Востока. Мы остались чужеродным элементом — и в
этом корень проблем наших взаимоотношений с соседями.
Помню свой первый поход на иерусалимский базар. Шел я с целью купить... пуфик.
Кожаный, восточный, расписной, восьмиугольный. Видел такой у знакомых, купили
недавно, заплатили 20 лир. Такие деньги у меня были. Прихожу, нахожу пуфики.
Много. Выбираю. Подхожу к продавцу с деньгами. А он мне: „50 лир". Кладу
пуфик, поворачиваюсь уходить, он меня хватает за рукав. Говорит: „40" — и
смотрит. Я снова поворачиваюсь. Он спрашивает -сколько? Я — 20. Он — 30. Я
снова ухожу. Он снова — сколько? Я — 20. Он — 25. Я снова... тут он,
чрезвычайно расстроенный, говорит — 20! Я беру пуфик, а он, снова схватив меня
за рукав, начинает быстро-быстро объяснять: „Мой господин не прав. Так не
делают на базаре. Ты должен говорить каждый раз больше, я каждый раз - меньше.
Если мой господин хочет купить вещь за 20 лир, он должен начать с 10 и
добавлять. А я буду сбавлять. Мой господин купит свою вещь за ту цену, что он
хочет, он будет доволен, но и я буду доволен, потому что я сбавлял цену в
ответ на добавление моего господина. А так — совсем неправильно..."
Он продал мне пуфик — у него их было очень много. Но остался очень недоволен,
и долго еще в моих кружениях по рынку я то и дело замечал его хорошенькую
рожицу, обращенную ко мне с чувством глубокого неудовлетворения.
Ближний Восток — не пуфик. Он один. И у нас, и у них. И для нас, и для них. И
торговаться надо уметь. Чтобы и та сторона оставалась довольна ходом торга. И
они ведь нам неоднократно намекали, что, мол, есть у вас карта Великого
Израиля, от Инда до Нила, от горы Арарат до озера Виктория. А мы все свое
талдычим: „20 лир" — „безопасные границы". Даже прожженный политик Анвар
Садат, годами готовившийся к поездке в Иерусалим, был потрясен, не увидев в
Кнессете карты Великого Израиля. И баба его шастала по всем магазинам на улице
Дизенгоф — не нашла. Нет, говорит, у них такого, предлагают... глобус! Понял
намек! Не „Великий", а „Всемирный Израиль"...
Так вот мы и фраернулись с западной границей нашего государства. Но ведь
восточная еще не завязана! Великая река Инд - вовсе не в Индии течет, а в
мусульманской стране Пакистане. Вот с них и надо было начинать. Предложить
мирный договор. Так уж и быть, не претендуем, мол (якобы)... Тут бы и
свободолюбивый Афганистан стал в очередь на подписание: мы вам русских
перебежчиков, а вы нам — мирный договор. И аятоллы персидские бы
зашебуршились. А там, глядишь, и до Саддама Хуссейна со временем очередь дошла
бы, сам бы пришел — с номерком, на руке чернилами написанным. Все, говорит,
подпишу, только, мол, отпустите народ мой — палестинцев, значит, а то
совершенно некому Вавилонскую башню строить. Очень хочется несколько этажей
„ин дрерд" углубить, этаких расширяющихся бункеров, очень надо...
Мы бы, конечно, поупирались, что, мол, а дома для олим хадашим кто строить
будет, да и „интифаде" мы еще свой грозный ответ не сготовили. Но он бы
уперся. Очень он упертый, этот Саддам...
Развеселил я вас, дорогие читатели? Дыхнул оптимизмом?
Ну, тогда самое время пульнуть пессимизмом. Потому как не светит нам великий
торг на солнечном ближневосточном базаре. Потому что политикой нашей
заправляют унылые пни с мозгами, аккуратненько спиленными в лучших традициях
„советской науки".
Неоновый красочный транспарант „Слава советской науке" видел я в последний раз
над железными воротами горьковской пересылки. Там, я полагаю, ему самое место.
Но место ли ему над Тель-Авивским университетом? Увы, читатель.
 В 75-м номере журнала „22", на 20 с лишним его страницах, было опубликовано
интервью с профессором кафедры истории, доктором наук Тель-Авивского
университета господином Шимоном Шамиром, бывшим послом Израиля в Египте. Тема
интервью — наши взаимоотношения с соседями в свете войны в Персидском заливе и
роста арабского фундаментализма. В 75-м номере журнала „22", на 20 с лишним его страницах, было опубликовано
интервью с профессором кафедры истории, доктором наук Тель-Авивского
университета господином Шимоном Шамиром, бывшим послом Израиля в Египте. Тема
интервью — наши взаимоотношения с соседями в свете войны в Персидском заливе и
роста арабского фундаментализма.
Уже само определение фундаментализма, как „всего лишь последнего прибежища
отчаявшихся", с безукоризненной простотой указывает нам на знакомую школу
„науки".
Пытаясь обосновать это „отчаяние" неудачей арабских попыток войти в западную
цивилизацию, проф. Шамир говорит: „Массы людей были сдвинуты с обычных мест,
перемещены из деревень в города, возникла инфляция и социальная поляризация,
были подорваны традиционные ценности, была разрушена система традиционного
образования, в быт ворвались новые веяния — телевидение, кино и тому
подобное".
Казалось бы, каждое слово тут противоречит выводу о том, что именно
перечисленные явления привели к росту (?) фундаментализма. Но автор упорно сие
утверждает. Почему? Напомню. Точно такой формулировкой „советская научная
школа" объясняла возникновение... фашизма и нацизма! (А для верного ученика
этой школы нацизм и фундаментализм - очевидно - явления одного порядка.) Хотя
с той же степенью достоверности приведенным набором социальных факторов
(заменив лишь „телевидение и кино" на „театр и балаган") можно было бы
„объяснить" возникновение палаты общин в Англии, введение кодекса Наполеона во
Франции или победу большевиков в России. Значит, не только в социальных
факторах дело, как и пытался выяснить у профессора интервьюер? Но профессор
остался верен „единственно верному... и так далее... учению". Он продолжает
оставаться ему верным даже тогда, когда сам не видит никакого тому оправдания
— например, в утверждении, что „американцы... стремятся лишить арабский мир
его свободы и независимости". Арабы, якобы, — по его мнению, — в этом
убеждены. Но мы-то знаем, кто их в этом убеждал.
Я все же склонен полагать, что арабы не столь наивны, как тель-авивский
профессор. Их отношение к американцам гораздо проще объяснить американским
предательством всех прозападных режимов на Ближнем Востоке — короля Фарука в
Египте, подписантов Багдадского пакта в Ираке, шаха в Иране, христиан в Ливане
и курдов в ходе последней войны. (А до того — в Восточной Европе,
Юго-Восточной Азии, и затем в Латинской Америке.) Не хотят арабы доверять
стране, со столь упорным постоянством демонстрирующей эгоистическую склонность
к предательству... И выводят они эту склонность из западной культуры и
прагматического мировоззрения. Арабы не любят, когда их предают. Они так
полагают, что когда их предают, то их не уважают. А уважение очень ценят на
восточном базаре.
Арабы выстраивают свой фундаментализм как некий третий путь, отвергающий как
западный прагматизм, так и нежную заботу бывшего лучшего друга всех
развивающихся стран. За заботу эту они заплатили высокую цену — много выше,
чем это принято на Востоке.
Об этом молчит советская наука. Об этом молчит и проф. Шамир.
Но факты остаются фактами. А факты состоят в том, что „дружба" с СССР принесла
Египту ущерб, много больший, чем четыре поражения в войнах с Израилем.
Ассуанская плотина не только превратила „житницу Средиземноморья" в нищую
пустыню — она сделала Египет чрезвычайно уязвимым в случае войны. Осознав это,
Садат запросился в Иерусалим. Мира он просил. Не выдвигая „жестких условий".
Встретили его восторженно. И по совету... (возможно, проф. Шамир был среди
советчиков) отвели его в Яд Вашем — разжалобить нашей Катастрофой.
После чего требования Садата стали весьма жесткими — полное и безоговорочное
наше отступление. А ведь можно было свозить его вместо этого в Димону и фильм
ему показать — о другой „катастрофе": Египта в случае войны.
Но ведь я уже говорил о советниках...
Все израильские уступки не спасли Садата. Фундаменталисты, благодушно
простившие ему поражение 1973 года, — за подпись под мирным договором убили
его.
Мы остались без Синая и поселений там, но с подписью покойника. Если Египту
понадобится ее ликвидировать, это не займет и 5 минут!
Зато „нам было с кем разговаривать"! С фундаменталистами, с Хамасом и прочими
нам разговаривать не о чем — вот что заботит профессора Шамира.
Меня это радует. Как радуют меня и успехи фундаменталистов. Ибо цель моя — не
разговаривать, а жить. Не уступать, а копить силы. Мы пережили много эпох. Нам
надо пережить и фундаментализм. |
|
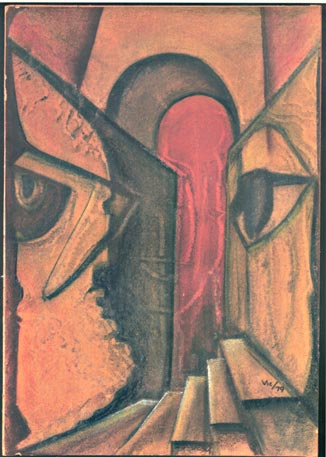 ЗАМЕТКИ К ПОЛЕМИКЕ ЗАМЕТКИ К ПОЛЕМИКЕ
Человечество (на сегодня!) разочаровалось в социализме. Коллизия выглядит
легким фарсом. Мало ли в чем бывали разочарования — в фокстроте, в шимми, в
шляпках с вуалью, в мушках на левой щеке. В данном случае все гораздо
грустнее, скучнее, трагичнее, в конце концов. Разочаровалось...
Я полагаю, точнее констатировать: социализм разочаровался в человечестве.
Придуманная социальная система оптимального общества оптимально придуманных
людей оказалась живым людям ненавистна, нетерпима, отвратительна. Социализм
разочаровался в живых, непридуманных идеях. И именно в этом трагедия тех
единиц (миллиона? двух?), что готовы были в него верить, ему служить. Они
утратили идеологию. Теперь они судорожно ищут ей замену. Пытаются сохранить
хоть что-нибудь от „великой" идеологии социализма — например, универсализм,
гуманизм, „общекультурные ценности". В большой луже растекшейся в ничто
идеологии прежних лет, как пляшущие человечки, отражаются малые, на скорую
руку состряпанные идеологийки.
Возьмем, к примеру, столь распространенную в уходящем веке — и близкую мне и
моему оппоненту — идеологию коллег наших, архитектурных „столпов". От Корбюзье
до Нимеййера они были сторонниками социализма, дающего архитектору возможность
проектировать вне границ частной собственности, вне учета частных
возможностей. Продуктом оказался диктаторский бред — во всех режимах, от
Муссолини, Гитлера и Сталина и до самых мелких „принцев социализма". Странно,
что эту сторону Дмитрий Хмельницкий-архитектор отчетливо сознает, а вот другие
особенности той же идеологии в ее приложении к реальности — в упор не видит...
....Культура — это дом. Тоже своего рода архитектура. И дом этот нация строит
— для себя. Как среду обитания своего национального духа. Строит из того, что
есть под руками. И что у соседей прибрать можно. И что гости принесут. Все,
что понравится, — идет в дело. Даже какую заморскую вещицу иной раз поставит —
для украшения.
Ежели хозяин радушен да дружелюбен, то дом его открыт: приходите, смотрите,
любуйтесь. Может, вам чего понравится — у себя так сделаете... Хотите пожить у
нас — пожалуйста, можете оставаться (если место есть...)
Все стерпит радушный хозяин. Пока гость не заявит права на владение...
„Этнически мы русские, и дело с концом, обрезай его не обрезай".
„Нет, — тихо скажет хозяин.
— Вы генетически не русские, другие вы..."
Но гость попадется настырный. Не сразу уступит:
„Генетическая (расовая) характеристика давным-давно перестала совпадать с
культурной и не имеет смысла в подобных дискуссиях... Нет в научном смысле
„единой русской культуры"... Русская литература 19 века — один культурный
срез, матерные сказки, записанные Афанасьевым, — совсем другой, а одесский
фольклор, породивший Бабеля, — третий. Это системный подход, то есть научный".
„Нет, — тихо возразит хозяин.
— Не научный. Ибо пушкинский „Царь Никита" прекрасно на одной полке с
Афанасьевым уживается, и есть у нас, кроме того, и Ремизов, и Лесков. А
Бабеля, — скажет он, — не я тут поставил, а ты. И если хочешь, уходя, забрать
с собой - забирай. Только, забирая, учти, что вопрос, кто кого породил:
одесский фольклор Бабеля или наоборот — остается открытым... для „научного
подхода". Этот Бабель породил еще и „комиссарский фольклор".
„И комиссары в пыльных шлемах склонились тихо..."
...над растерянной фигурой Дмитрия Хмельницкого, уходящего из географического
ареала русской культуры.
А вслед уходящему так должно быть думал хозяин: „Это надо же — „систему"
придумал... ненациональных культур... всеобщую... всемирную... Не по-нашему
это. Ни один русский всемирных систем не сочинял... как можно за всех... ведь
известно же — „что русскому здорово, то немцу смерть"... а вот ихняя нация —
она всегда в „мировом масштабе"... то пророки ихние... то Маркс со своей
прибавочной стоимостью... то Фрейд под свой эдипов комплекс все научно
подгоняет... то Иммануил Великовский ради оправдания своей гипотезы всю
хронологию мировую перетряхивает... и комиссары ихние тоже все мировую
норовили..."
„И комиссары в пыльных шлемах..."
Сложные чувства обуревают меня при мысли об этих комиссарах. Эдакая странная
смесь пиетета и жалости. Пиетет к наивно-восторженным идеалистам, трепетно
жаждавшим любой ценой построить Новый мир всеобщего братства, где
„национальная ментальность... зависит только от среды обитания", а потому всем
ясно, что „миф о голосе крови — скверная выдумка мистиков и расистов", и где
начисто можно будет забыть свои корни, „потому что хедер и талмудическое
богословие как альтернатива европейским университетам — не слишком мощный
духовный багаж для цивилизованного человека".
И жалость к этим людям, не понимавшим, что рубили они тот единственный сук, на
котором сидели.
Симпатичные и наивные люди.
Вот и мой оппонент...
„Время — это дано. Это не подлежит обсуждению. Подлежит обсуждению
основавшийся в нем". (Молодой Наум Коржавин.)
Представьте себе сценку: два мальчика (представление о половой жизни —
нулевое) становятся невольными свидетелями грубого изнасилования.
Реакция первого: глубокая психическая травма, отвращение к темному инстинкту
мужской потенции, желание это темное, звериное, мучающее на его глазах —
уничтожить, изжить, похоронить...
Первый мальчик убегает с острым желанием себя оскопить и объявить мир скопцов
единственно приемлемым, справедливым миром — миром, руководимым разумом.
Реакция второго: непонятное ему самому, невероятное возбуждение. Он убегает в
поисках женщины, чтобы самому сделать с ней „это".
Представили? Тогда вопрос первый: на стороне какого мальчика ваши симпатии?..
Ответили?.. Вопрос второй — в какой роли (при исполнении их желаний) вы бы
предпочли увидеть собственного сына?
 Мне безусловно симпатичен первый мальчик. Его реакция — бессознательная,
неосмысленная, именно та, что имеет отношение к „ментальности", а вовсе не
„осмысление", которое бывает либо умным, либо глупым, что, как я полагаю, во
всех нациях находится примерно в одной пропорции, — мне симпатична. Но — я не
могу не видеть, что он не прав. Ибо его реакция направлена против инстинкта
жизни, права на жизнь — его собственного права в конечном счете. Правота
вообще редко бывает симпатична и привлекательна. Очень привлекательными (если
не для „осмысления", то для общего впечатления, „очарования") были „комиссары
в пыльных шлемах"... вот и довели „левым маршем"... Мне безусловно симпатичен первый мальчик. Его реакция — бессознательная,
неосмысленная, именно та, что имеет отношение к „ментальности", а вовсе не
„осмысление", которое бывает либо умным, либо глупым, что, как я полагаю, во
всех нациях находится примерно в одной пропорции, — мне симпатична. Но — я не
могу не видеть, что он не прав. Ибо его реакция направлена против инстинкта
жизни, права на жизнь — его собственного права в конечном счете. Правота
вообще редко бывает симпатична и привлекательна. Очень привлекательными (если
не для „осмысления", то для общего впечатления, „очарования") были „комиссары
в пыльных шлемах"... вот и довели „левым маршем"...
Еще, правда, встречается мнение, будто не они виноваты, не их
„всечеловеческая" идеология, а — перегибы, уклоны и т.п. Чушь! „Левый марш"
был реализован в единственно возможном варианте.
Многие норовят ту реализацию назвать тюрьмой, темницей... мне кажется
достоверней назвать то, что было, — „теплицей".
Мой оппонент вырос в такой теплице. В архитектурном дворце универсалистской,
гуманистической Идеологии. Теперь, когда теплица распалась и идеология потекла
огромной лужей, он впервые увидел реальную жизнь реального мира и — испугался.
И, испугавшись, стал хвататься за остатки идеологии и, как положено
архитектору, строить из нее себе новый дом. Новую теплицу. Эдакий защитный
кокон — выдуманный мир, где нет „национальных ментальностей" и „национальных
культур", и вообще никаких наций и всего того грязного, мучительного и
пугающего, что неизбежно связано с правом каждого народа на жизнь. На свою
жизнь...
Не стоит труда разобрать все частные передержки в статье моего оппонента. Но —
и не стоит труда, по-моему. Не в том дело, чтобы указывать ему на конкретные
ошибки в оценке роли еврейской культуры. Или, скажем, сионизма. Тем более — он
во многом прав. Мне тоже несимпатичны неофиты от еврейского национализма. А
пафос моего оппонента мне, напротив, весьма симпатичен. Но, как архитектор, я
вижу, что дом, который он хочет построить — еще один оптимально
запланированный дом, где живут одни только „хорошие люди" и куда не пускают
„плохих", — этот дом стоять не будет. Судьба социализма — хороший урок для
всякого социального архитектора...
(на этом рукопись обрывается) |
|
ПАМЯТИ ДРУГА
Умер Виктор Богуславский. В одночасье, как резкий хлопок в ладоши, — умер.
Посидел с друзьями, чуток выпил, поспорил, вернулся домой, лег и — вот.
Умер один из самых ярких людей алии семидесятых. Человек парадоксального,
отчетливого и независимого склада мыслей, человек дела и труда — страстный,
веселый, красивый.
Его биография точна и последовательна, судьба плотна событиями, устойчива и
жестка — судьба архитектора, очень профессионального, очень гибкого и
активного, спроектировавшего и отстроившего без малого половину поселенческого
Шомрона. Его дом и могила — в Баркане, высоко. Над самарийским пейзажем. Он
любил Израиль и строил его. Он сам, вытянутый как струнка, руки в карманах
курточки, насмешливый, по-европейски — а на самом деле по-петербуржски —
изысканный и по-зэковски неюркий, умеющий, а это в крови, держать спину, он
сам был частью нашего пейзажа — природно-каменистого и человеческого.
Виктор Богуславский сел по ленинградскому самолетному делу. Вел себя на
следствии и в лагере безукоризненно. Так всегда вел он себя с противниками.
Иронично, холодно. И безукоризненно. Основным его качеством было —
самостоятельное, личное, этически отчетливое обоснование поступка и жеста:
качество благородства и великодушия.
Он умер молодым, как жил и действовал, и поступал. Умер в пятьдесят лет
молодой смертью.
Он был азартным полемистом, публицистика его всегда носила незатертый оттиск
его личности, только его опыта, автограф его персональной судьбы. Он был
пристрастен. Его пристрастности было на что опираться — она опиралась на
честь, ум и страсть.
Виктор Богуславский был одним из основателей нашего журнала, постоянным членом
редколлегии, нашим постоянным автором. Спасибо ему. За то, что он был нашим
другом. Таким мы его любили. И любим.
Могила его в Баркане.
Нагорье.
Высоко, под самым небом Израиля.
Он так хотел.
Редакция журнала «22» |
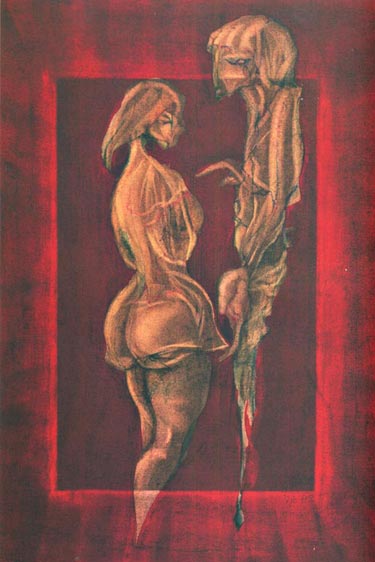 Пуфик и пень
Пуфик и пень В 75-м номере журнала „22", на 20 с лишним его страницах, было опубликовано
интервью с профессором кафедры истории, доктором наук Тель-Авивского
университета господином Шимоном Шамиром, бывшим послом Израиля в Египте. Тема
интервью — наши взаимоотношения с соседями в свете войны в Персидском заливе и
роста арабского фундаментализма.
В 75-м номере журнала „22", на 20 с лишним его страницах, было опубликовано
интервью с профессором кафедры истории, доктором наук Тель-Авивского
университета господином Шимоном Шамиром, бывшим послом Израиля в Египте. Тема
интервью — наши взаимоотношения с соседями в свете войны в Персидском заливе и
роста арабского фундаментализма.
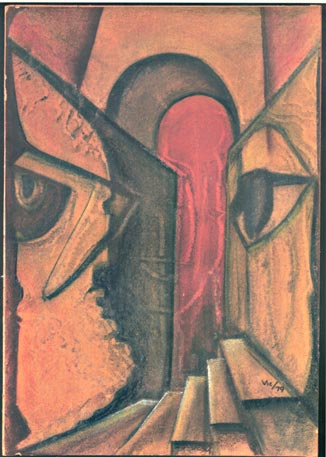
 Мне безусловно симпатичен первый мальчик. Его реакция — бессознательная,
неосмысленная, именно та, что имеет отношение к „ментальности", а вовсе не
„осмысление", которое бывает либо умным, либо глупым, что, как я полагаю, во
всех нациях находится примерно в одной пропорции, — мне симпатична. Но — я не
могу не видеть, что он не прав. Ибо его реакция направлена против инстинкта
жизни, права на жизнь — его собственного права в конечном счете. Правота
вообще редко бывает симпатична и привлекательна. Очень привлекательными (если
не для „осмысления", то для общего впечатления, „очарования") были „комиссары
в пыльных шлемах"... вот и довели „левым маршем"...
Мне безусловно симпатичен первый мальчик. Его реакция — бессознательная,
неосмысленная, именно та, что имеет отношение к „ментальности", а вовсе не
„осмысление", которое бывает либо умным, либо глупым, что, как я полагаю, во
всех нациях находится примерно в одной пропорции, — мне симпатична. Но — я не
могу не видеть, что он не прав. Ибо его реакция направлена против инстинкта
жизни, права на жизнь — его собственного права в конечном счете. Правота
вообще редко бывает симпатична и привлекательна. Очень привлекательными (если
не для „осмысления", то для общего впечатления, „очарования") были „комиссары
в пыльных шлемах"... вот и довели „левым маршем"...